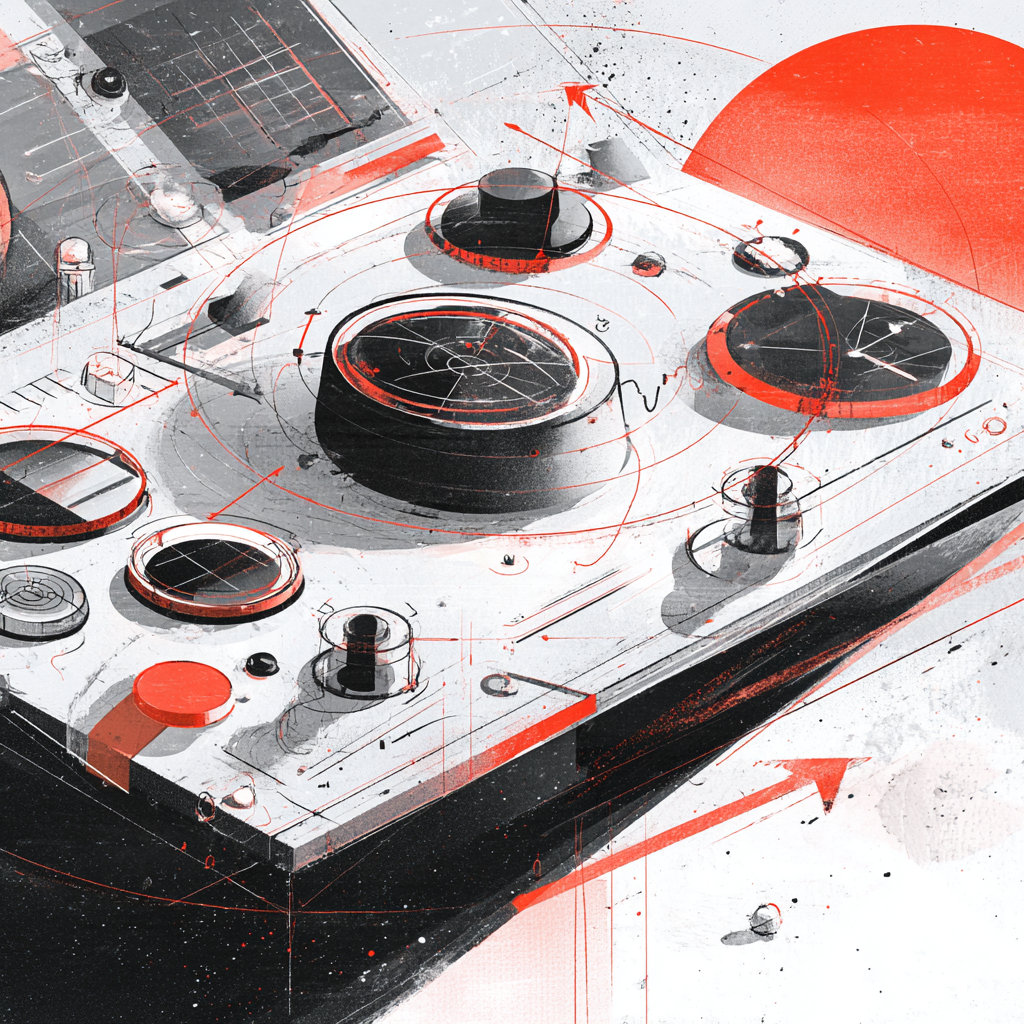Сегодня поговорим про сложность.
С одной стороны, сложность — это второе имя сегодняшней реальности. Мало кому придёт в голову спорить с тем, что действительность устроена непросто: с точки зрения архитектуры её акторов, их интересов и взаимодействий, а также инфраструктур, на которых эти взаимодействия разворачиваются.
Объем всех наших оцифрованных данных, по некоторым оценкам, удваивается каждые полтора-два года. Даже с поправкой на избыточность (большинство этих данных – бесполезный шлак), это приводит к увеличению сложности моделей, описывающих окружающий ландшафт.
С другой стороны, сложность — это то, чего многие стараются всеми силами избегать. Спрос на простые и понятные модели, которые помогают принимать простые, понятные и неправильные решения, также растёт. «Без сложных терминов», «Вань, давай проще», «саммаризируй это» и «объяснения простыми словами» – буквально на каждом шагу.
Количество информации, которую, мы посылаем на три буквы (LLM) с целью получить простую пережёванную выжимку еще предстоит оценить. Но уверен, что это просто производная от функции роста информации. То есть – тоже экспонента.
Вера в миф, что для каждого явления есть простое объяснение, нужно лишь «отжать воду» или найти «классного эксперта», который объяснит простыми словами, неистребима. Но нет, существуют вопросы сложные by design. И они не просто существуют, а находятся прямо здесь с нами, в одной комнате, каждый день влияя на наши поступки и качество нашей жизни. Я говорю про тот поток информации, который мы ежедневно в себя принимаем.
Будь мы простой работяга, залипающий вечерами в тиктоке или топ-менеджер, посещающий модную конференцию – мы загружаем данные в свою глубинную структуру, формируя её для всего того, что придёт в неё позже. Это мощнейшая петля обратной связи: нейронные конструкции, которые участвуют в обработке потока шлака, не расслабляются, а тренируются.
В чукотской кухне есть такое блюдо - Копальхен. По сути это сгнивший внутри себя замороженный олень. Если неподготовленный человек съест этот северный деликатес, он гарантированно отправится к праотцам. Но коренные народы прививают своим детям устойчивость к трупным ядам Копальхена с детства, что позволяет им потом его есть без риска для жизни.
Современный инфопоток – это тот же Копальхен. Просто мы к нему приучаемся постепенно и нам кажется, что мы не травимся.
Справляться с этим потоком не роскошь, а необходимость. И чем большего количества людей, касаются решения, которые мы принимаем под влиянием инфокопальхена, тем больше наша ответственность за то, чтобы разобраться прежде чем действовать.
Почему же нас так пугает сложность? Рискну предположить, что пугает в большей степени не сложность, а неопределённость. Постижение любой сложной концепции – это труд, когнитивная издержка, которую нашему мозгу хочется на что-то обменять.
И у нас не так много вариантов чем ему заплатить за нагрузку. Их четыре: дофамин, серотонин, окситоцин и эндорфин. И среди них наибольшей ликвидностью в вопросе победы со сложным является именно дофамин. Он, как известно, отвечает за концентрацию, внимательность и мотивацию.
А теперь внимание вопрос: с помощью чего мы научились майнить этот самый дофамин по дешёвке, обеспечив ему немыслимую инфляцию? Правильно, благодаря инфокопальхену, который орёт на нас: не думай, не рассуждай, не вникай, просто освой комфортный думскроль и плыви им по течению расслаблающего контента.
Та награда, которую мы должны получать за постижение сложного, выдаётся нам за отказ от этой самой сложности.
Впрочем, есть способ вернуть цену дофамину и если уж не полюбить, то хотя бы подружиться со сложностью, поставить её себе на службу. Способ скучен, банален, но работает – необходимо поставить Цель.
По-настоящему, без дураков вдохновляющий образ будущего способен облегчить нам работу со сложностью, упорядочить и удерживать в голове структуры, которые моментально развалились бы, не будь у нас цели.
Это, разумеется, не гарантия и далеко не достаточный фактор. Если бы это было так, то академия наук сплошь состояла бы из выпускников тов. Блиновской, часик ей в радость. Но всё-таки, цель – это необходимое условие структурирования сложности.
Это подтверждается и нашей практикой. После того, как компания пройдет через этап постановки и принятия целей (что само по себе непростая работа), степень сложности доступных ей концепций, резко повышается. Все эти издержки на вникание уже не вызывают отторжение, а проходят по ведомству априорного согласия с целью.
Поэтому если вы давно живете с фрустрацией от сложности мира вокруг, стоит задаться вопросом: а ради чего вообще вы живёте прямо сейчас?